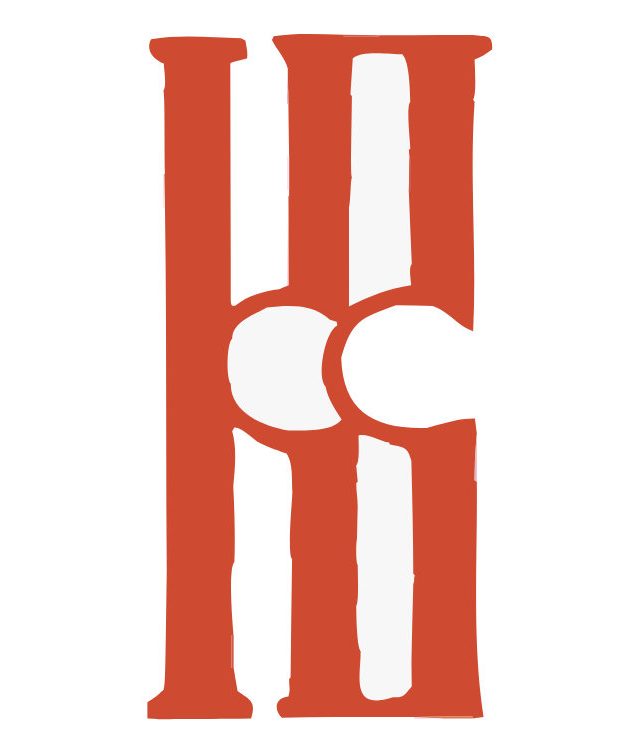Воспоминания
Геннадий Пронин
Воспоминания о Константине Васильеве
Часть 1. Юность (отрывки)
(полностью опубликовано в журнале «Казань» № 7 за 2002 г.)
…Первое произведение 18-летнего Кости в формалистическом стиле под названием «Серая композиция №1» сначала казалась мрачной мазнёй, но в то же время чем-то сильно притягивающей, какой-то необычной эстетикой, изяществом линий и форм. А когда Костя объяснил содержание картины (точнее графического листа), а оно оказалось вовсе не бессмысленным, ведь на нём изображена сцена из «Преступления и наказания» Достоевского, когда Раскольников читает Соне библию, пытаясь пробиться хоть к какому-то свету в душе, я понял, что эта картина мне нужна. Со слабой надеждой я обратился к автору продать мне картину, и он неожиданно легко согласился. Причем сам выбрал себе в качестве платы баночку меда, которую он увидел у меня на тумбочке. На радостях мы тут же поставили чай и уговорили баночку меда на двоих. Я был удивлен щедростью Кости, но как я потом понял, он был уже увлечен идеей будущей «Серой композицией № 2» и потому легко простился с «№ 1». Увы, Второй номер не сохранился. Зато Первый висит сегодня в казанской Картинной галерее Константина Васильева, как и многие другие его «ошибки молодости». Ведь через пять лет Константин откажется от всех своих увлечений сюрреализмом, абстракционизмом, экспрессионизмом и прочими измами, будет уничтожать и выбрасывать многие свои прежние произведения, и только друзьям художника удастся сохранить немалую часть этих картин, нарисованных тушью и карандашами на ватмане, на обороте технических чертежей студентов авиационного института, с которыми ему пришлось жить во время учёбы в Казани.
А пока творческая жизнь только начинается. Костя целые дни крутит на своем проигрывателе Чайковского, Бетховена и ещё каких-то менее известных, а то и диковинных композиторов. И рисует. Музыку он слушал в темноте или закрыв глаза. Особенно его потрясла 8 симфония Шостаковича. В это время, а это был 1961 год, Костя создал еще одну «серую композицию»: «Квартет» по Шостаковичу. Под впечатлением этой музыки он нарисовал гениальный портрет Шостаковича. Этот портрет, сделанный тушью на ватмане, так всех поразил, что воодушевленный Костя сразу написал в том же стиле Стравинского, а через некоторое время разразился целой серией портретов композиторов. Он не пожалел свою однотомную музыкальную энциклопедию, зарисовав своими стилизованными угловатыми формами ни в чем не повинные лица великих композиторов прямо в книге, перенеся их потом на листы ватмана. В итоге мы имеем сегодня 18 портретов композиторов.
…В том же 1961 году Костя где-то достал польский художественный журнал, где мы впервые увидели целый набор абстрактных картин во всей своей авангардной красоте, хотя и в черно-белом варианте. В нашей стране таких журналов не выпускали. Абстракционизм был фактически под запретом. Самыми любимыми художниками Кости стали теперь американцы Джексон Поллок и Роберт Мотервелл (Мозеруэлл). Первый создавал свои картины, бегая по своим большим холстам то вдоль, то поперек, а иногда наискосок, оставляя за собой длинные жирные следы выдавленных из тюбиков красок. Повторить это Косте было не по средствам. Кроме больших холстов, требовалась тележка тюбиков с красками. Дешевле было пойти по пути Мотервелла: взять флакончик туши и на чисто белом листе ватмана наляпать пару больших черных пятен. Как выяснилось потом этот творческий метод был не только дёшев, но и хорошо подходил для выражения внутреннего состояния художника того времени. Абстрактный экспрессионизм – вот как называл этот свой новый стиль сам художник. И в самом деле, наблюдая иногда за тем, как Костя создавал эскизы своих абстракций (а в этом стиле он всегда работал с предварительным созданием небольших эскизов), я видел, как Костя плавными, но быстрыми интуитивными движениями кисти с тушью пытался создать какую-то форму, найти неведомую линию, выразить какое-то свое внутреннее состояние, настрой. Таких эскизов он сделал, наверное, сотни, благо, туши и мелкой бумаги у нас хватало. Из этих сотен эскизов Костя выбирал единицы, которые затем тщательно увеличивал, обычно по клеткам, до размеров большого ватманского листа.
…Летом 1963 года нашего художника посетила любовь. Благодаря этому периоду мы имеем сегодня свыше десяти рисунков его любимой девушки: «Музыка ресниц», «Грусть королевы», «Девушка», «Печаль» и другие. Рисунков было много, а Костя делал все новые вариации и искал все новые формы для запечатления загадочной красоты. Игра линий и цвета постепенно вытесняли само лицо девушки и превращались в почти абстрактный рисунок. Многие посетители галереи и сейчас не сразу видят лица на этих рисунках сквозь паутину изящных линий.
…В эти же годы (1962-1964) параллельно с абстракционизмом Костя увлекался и сюрреализмом. Его первой по-настоящему сюрреалистической картиной была «Струна». Высокая трагедия: красота и ее гибель. Голова человека пылает в огне и одновременно тонет в пучине, Книга горит, пытающаяся дотянуться до нее девушка сама уже дымится, виолончель без струн, а последняя струна, натянутая через всю картину, вот-вот будет оборвана гвоздями. Колокол еще пытается до кого-то дозвониться, но уже загорается веревка, на которой он висит. Все ценное на Земле – тленно, и самое ценное погибает первым. То же настроение и на других сюрреалистических работах К. Васильева («Колизей», «Атомный взрыв», «Аргонавты», «Музыка»).
…В этот сюрреалистический период Костя переживал экзистенциальный кризис. Еще при первой встрече с ним я увидел в нем полную отрешенность от мира внешнего и уход в самого себя. Ходил он с опущенной головой, ни на кого не смотрел, ничего его серьезно не волновало, кроме внутренних переживаний, и только какое-то природное здоровье удерживало его в этом мире и заставляло искать выход. Я понял, что Костя пережил то же, что недавно пережил и я сам: осознание конечности своего существования, а потому – бессмысленности всего происходящего на этой Земле. Костя заглянул в бездну, ощутил холод небытия. Мир вокруг сразу стал серым, формалистичным, потом черно-белым, абстрактным. Потом неожиданно возникла любовь-надежда, и мир стал розово-голубым. Но любовь прошла, и мир стал сюрреалистичным, как обрывки кошмарного сна. Гибнет последняя надежда. Остается смерть.
Или выздоровление.
К счастью, Костя был здоров и телом, и душой. Более здорового, трезвого и ясного умом человека я больше не встречал в жизни. И он выбрался из этого умственного тупика. Помогла Природа. В свои 24 года Костя как будто переродился. И в то же время остался собой. Ему досталось еще 10 лет жизни… Самых главных, наверное…
Олег Шорников.
Краски, кисти, холсты, рамы
Со средины 1966 г. и до конца 1977 г. я работал в Астрономической Обсерватории им. Энгельдардта (АОЭ), что расположена в лесу, на Чувашской Горе, в десятке километров от поселка Васильево (вспомните станцию «Обсерватория» на железной дороге при подъезде к Казани). По служебным делам мне часто приходилось ездить в Ленинград – в Пулковскую Обсерваторию и в московские астрономические организации, а это позволяло покупать для Константина Васильева краски, кисти, холсты, багет для изготовления рам и готовые рамы.
Краски под масло Константин признавал только Ленинградские: «другие желтеют». Поэтому мой груз для него из Ленинграда – только краски, лаки, художественное масло и разбавители, а вот багет, рамы, холсты, кисти – из Москвы. Багет можно было купить и в Казани, в магазине Художественного фонда, но московский багет был качественнее – он не осыпался при перевозках, а окрас рельефа в орнаменте тонко менялся: внутренняя ровная кромка, прилегающая к холсту, горела желтым золотом, а в глубине резного орнамента и к краю рамы золото червонело и темнело, подчеркивая рельеф и глубину рамы.
Конечно, багетом дело не ограничивалось, и я (по своей инициативе), будучи в Москве, однажды зашел в «рамную» мастерскую при Третьяковской Галерее и обратился к мастерам–рамщикам с вопросом, нельзя ли приобрести хорошие рамы. Главный мастер, невысокий, брюзгливый человек, начал ворчать: «Подите, купите рейки, вот вам и рама – на нынешние картины ничего лучшего и не надо». А было это время, когда на выставках, на вернисажах вся живопись была подавлена бесконечными вариантами на одну и ту же тему: доярки и сталевары, ну, иногда, для разнообразия — телятницы и монтажники. Всё писано крупной кистью – «Пастозно! Корпусно! Интенсивно!», на один мазок этой «крупной кистью» тратилось полтюбика краски… Ну, а рамки – это, конечно, рейки – никакой багет тут не ложится. Когда на крупную, лопатообразную щетинную кисть, а то и вовсе на мастихин – снасть, напоминающую детскую лопатку, но с гибким упругим стальным лезвием (Пастозно!), выдавливалось полтюбика краски на один мазок (Корпусно!) одного цвета (Интенсивно!) никакие рамы тут не требовались. Нужна была только рейка, отделяющая картину от стены, приблизительно того же художественного содержания, – ни о какой технике письма, ни о каком вдохновении, ни о какой тайне, поэзии, глубине личности художника — ни о чем этом не надо было думать, нельзя было думать… Но я отвлекся, речь не о том.
Как мог, я рассказал рамщику про Константина и этот, чуть ироничный человек, почему-то поверив мне и воодушевившись, сказал: «Здесь готовых рам пока нет, но поедем ко мне». Мы ехали на перекладных в новые кварталы Москвы, и где-то на седьмом-восьмом этаже стандартной многоэтажки, в квартире рамщика, я увидел прекрасные «резные» рамы. Конечно, не резные, а сделанные по современной технологии, с использованием пластика и гипса, но хуже от этого они не выглядели. В них были репродукции популярных пейзажей, портреты родителей и родственников рамщика (черно-белые увеличенные фотографии), и, надо сказать, они совсем не вязались с этими удивительными «резными» шедеврами рамного ремесла. Горящие золотом, и не ярким, желтым золотом, а золотом «червонным», благородного, глубокого золотисто-коричневого тона, эти рамы восхитили и покорили меня, устоять было невозможно… Отдав всю оставшуюся наличность (билет на поезд уже был куплен, а вышло что-то около 40-50 рублей на раму, тогда зарплата инженера была 100-120 рублей), я, счастливый, нагруженный тремя рамами, пошел пешком на вокзал (денег не осталось, путь был не близкий, а времени до поезда еще хватало).
Другой подобный случай произошел с нашим общим другом Толей Кузнецовым: как-то, увидев в антикварной лавке в Москве прекрасную «резную» раму, большую, тяжеленную, со встроенным металлическим каркасом, он восхитился, купил ее и, напрягая свою богатырскую силу и «крепость чёрных мясов, наводящую изумление», преодолевая ворчание и возмущение всяческих проводников – трамвайных, автобусных, вагонных – припер ее в Васильево, приведя в восхищение Константина и нас этим подвигом, достойным Геракла. Теперь в этой раме автопортрет Константина 1968 года.
Холсты. Когда Константин писал свои абстрактные композиции, он сам грунтовал холст — «бортовку» («бортовка» – швейники знают – это не плотная, но грубоватая и жесткая льняная ткань, которая закладывается в отвороты пиджаков, например): пропитывал, промазывал его смесью столярного клея и мела, а затем покрывал маслом в один-два слоя. Но когда он пришёл к живописи последнего периода, то очень серьезно стал относиться к грунтовке, и – за неимением всех составляющих качественного грунта (рыбий клей например) – вынужден был использовать готовый грунтованный холст. Сколько этого холста, вместе с багетом, я перевозил ему из Москвы! Теперь из столицы я всегда возвращался с длинным свертком, длиной 2,5 — 3 метра, – рейки багета, обернутые крупными листами грунтованного холста. Про споры с проводниками и взятки им не рассказываю.
Кисти. Кисти нужны разные: для акварели – беличьи, с мягким ворсом, легко принимающие краску, разжиженную водой и так же легко отдающие ее бумаге – без излишков воды, чтобы не коробился лист и не было потёков. «Нормализовал» Константин содержание воды на кисти, пропуская ее через губы: после всякого набора краски на палитре он быстро брал ворсяную часть кисти в рот и губами безошибочно отжимал ее; акварель ложилась плотно и ровно, без потёков и пробелов. Делал он это быстро и точно, не участвуя сознанием, здесь нужен опыт… и периодическое ополаскивание рта. Много писал Константин и гуашью — кисти были значительно больше, от пятого до седьмого номеров, а при написании акварельных этюдов он использовал первый-третий номера кистей, и для нормализации соотношения воды и краски на кисти он применял поролоновые губки.
Для живописи маслом требовались уже не беличьи, а колонковые кисти, особенно тонкие, малых номеров, и щетинные – для написания «подмалевка» (подготовительного контура будущей картины) и всего остального изображения, где не требовалась тонкая прорисовка. Колонковые кисти он истирал до самой жестянки, и мне часто приходилось разворачивать ее, вынимать истертый с одной стороны пучок меха, переворачивать его (внутри жестянки он был примерно той же длины, что и снаружи), снова обжимать эту жестянку вокруг ворса и дерева, закреплять ее и пожалуйста — готовая кисть.
Кому-то покажется парадоксом, но это истина: не художник выбирал средства, а средства выбирали его… Кисти! Они нашли Константина. Эти пружинные, тонкие – сверхтонкие – колонковые кисти! Кисти! Когда надо нанести почти невидимую по толщине линию, не затронув окружающие слои уже наложенного, но еще не отвердевшего изображения, ничто не позволит сделать это, кроме колонковой кисти. Если бы не было драгоценного зверька, колонка, Mustela sibirica, родственника соболя и куницы, что бы делали мировые живописцы – и Леонардо, и Рафаэль, и Рублев, и Боттичелли?!
Ничего бы не делали, страдали бы. У Леонардо есть известная картина «Дама с горностаем», горностай – это европейский брат колонка, Mustela erminea. Заметили что-то непреходящее, вечное?.. «Дама с горностаем!». Как, какими неисповедимыми путями? Кто соединил этого сибирского зверька из отдалённейших и уединённейших мест планеты с тем необычайным и великим взлетом человека, который являет нам великий и таинственный Леонардо?
И случайно ли то, что Константин Васильев почуял абсолютную, непреодолимую потребность в колонковых кистях! Кто-то скажет: «требования ремесла, необходимость профессионального плана», но почему она, эта необходимость, за многие десятилетия так остро возникла только у Васильева? Ни Васнецов, ни Корин, ни Нестеров, ни Верещагин — безусловно, величайшие мастера тонкой реалистической живописи, не испытывали такой непреодолимой необходимости в тонких, сверхтонких и упругих пучках этого драгоценного меха. А горностаевые мантии на плечах монархов! Не имевшие никакого практического значения, но символизировавшие вечную, великую, Богом данную благодать – не имеют ли они связи с тем непостижимым влечением Константина Васильева к колонковым кистям?!
И как же Константин во всем этом многообразии средств и технических возможностей живописи не потерялся? Мы здесь перечислили только очень узкую область тех приёмов и средств, которые ему пришлось освоить. Тайна живописного языка – непостижимая тайна — неизбежно приводит художника к страстному, несказанному стремлению внять, закачаться, заколдоваться, утонуть в стихии, в океане, в буре этого языка. Заперевшись один в комнате, не принимая ни пищи, ни воды, в непрерывном созерцании этой тайны, он – живописец — берет свою кисть и машет, машет в экстазе по ватману, по холсту, осатанев после долгого уединения, поста и воздержания – так создавал свои картины знаменитый американский художник Джексон Поллок. Васильев не имел такой возможности искать свои формы на больших холстах и не нуждался в уединении, посте и воздержании. Он был постоянно вдохновленным художником. Ему не нужны были состояния экстаза. Но на наших глазах он много-таки измарал бумаги – еще когда создавал свои абстрактные композиции, в том же состоянии внеобыденного, надличностного подъёма души. Почти все измаранные листы он выбрасывал. Но иногда отбирал один или два и увеличивал затем на большой холст. Вот здесь работала Кисть, здесь работала Краска, здесь работал Холст или Ватман – кто раньше? Раньше Кисть, Холст, Краска, Рама, наконец — или Художник? Конечно, Кисть, Холст, Краска и Рама… Конечно, Художник.